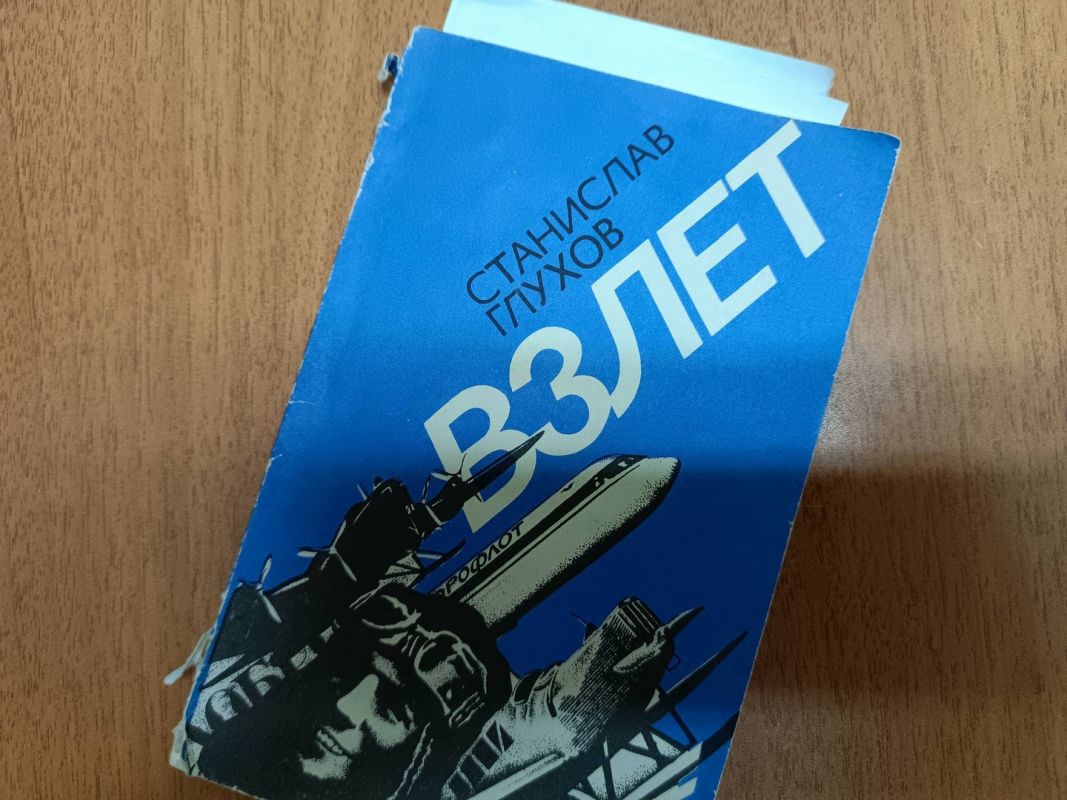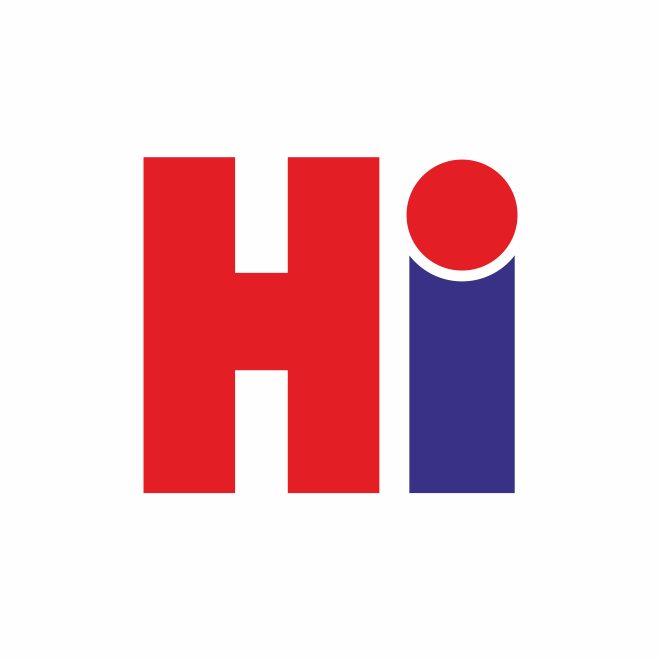«Легкий» перегон: как хабаровские летчики самолёты доставляли
В эти дни приближается очередной юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В горькие и славные страницы нашей истории свои строки — в тылу и на фронте — вписали и дальневосточные летчики. Именно о них свою книгу написал хабаровский писатель, редактор и журналист Станислав Глухов. И некоторые главы о той трудной, но важной поре в истории нашей страны мы предлагаем вашему вниманию.
В июне, когда Павел Прокофьевич Петренко уже заканчивал свой курс переподготовки в тренировочном отряде, туда, в Озерные Ключи, прилетел Владислав Опалев. Выскочил из кабины, бросил на крыло мешок запасного парашюта и крикнул:
— Эй, пэ в кубе! Вот зонтик для тебя захватил, срочно собирайся, со мной в Хабаровск полетишь. Ты назначен вторым пилотом новую машину в Москве принимать.
Пока Петренко ездил к своей семье в Тыгду, где он работал до последнего времени пилотом местного авиазвена, его новый экипаж — командир Замула, бортмеханик Петрушин и бортрадист Чечелев уже улетели в Москву. Пришлось ехать в столицу одному и поездом.
***
В пути застало Павла Петренко известие о начале войны.
Что делать? Возвращаться в управление, в Хабаровск, пока недалеко отъехал, или добираться до Москвы? Станет ли экипаж ждать его, раз такое случилось? Посомневался, но окончательное решение принял твердое: добираться, как и предписано командировкой, до места и явиться в Главное управление ГВФ. На их усмотрение. Дисциплина прежде всего.
К исполнительности и дисциплине, а это в авиации первое дело, Павел Прокофьевич приучился еще со времени службы авиатехником в гидроотряде Краснознаменной Амурской военной флотилии. Ему повезло: служил под началом старейшего дальневосточного летчика Эдуарда Мартыновича Лухта. Того самого, что прославился первым в истории перелетом с материка на остров Врангеля, «в фанерном ящике типа «Савойя», как шутил сам командир гидроотряда.
С аэродрома базы флотилии, где служил Петренко, стартовал в свой исторический рейс на Сахалин Михаил Водопьянов. Обслуживал Петренко поплавковые самолеты Р-1 и гидролодки «Савойя-62», на которых летал Александр Иванов, перешедший позже в Дальневосточное управление воздухолиний.
Так что после демобилизации у Петренко оставалась одна дорога — в авиацию. Благо в Хабаровске Осоавиахим открыл в 1931 году школу гражданских летчиков с отрывом от производства. Начальником школы была известная летчица, красный военлет Зинаида Петровна Кокорина. Хоть Петренко и считал, что авиация — это сугубо мужское дело, но... и инструктором у него оказалась Ольга Малышева, выпускница первого набора этой школы. И неплохим, кстати, инструктором.
Осоавиахимовская школа, учебный У-2 — все это лишь первая ступенька в небо. Нужны более основательные знания и машина посерьезней. Решив так, пятеро друзей, бывших учлетов — Аброськин, Воробьев, Черняк, Смоляников и Петренко поступают в Батайское летное училище. Пролетело два года, и летом 1936-го у него в руках уже был новенький аттестат, где значилось, что Петренко Павел Прокофьевич получил профессию пилота.
Коммунистов и комсомольцев направляли на Дальний Восток в первую очередь. Он к тому времени пять лет был членом партии, да и родом сам из Приморья. Так что с распределением не было проблем. До 1938 года он работал в Дальнереченске в авиаотряде спецприменения, затем командиром звена в Ясном Амурской области, после этого перевелся в Тыгдинское звено, и вот теперь — война, курьерский поезд Хабаровск — Москва, в кармане командировка в Главное управление гражданского воздушного флота...
***
Ко времени его приезда в столицу там уже была сформирована из гражданских пилотов разных управлений Московская особая группа ГВФ, непосредственно обслуживающая нужды фронта. Как Петренко и предполагал, в свой дальневосточный экипаж он не попал — поставили на Ли-2 вторым пилотом в экипаж к москвичу Дмитрию Ивановичу Кузнецову, одному из опытнейших пилотов, успевшему уже налетать миллион километров. Тогда таких «миллионеров» в Аэрофлоте можно было сосчитать по пальцам.
Летали много. Самолет, густо замаскированный ядовито-болотными разводами, водили бреющим полетом, прижимаясь к земле — благо Украина как стол ровная, только ветряки успевай перепрыгивать. Немецкие самолеты нагло, в открытую ходили вверху. К линии фронта доставляли оружие, патроны, снаряды, горючую смесь в бутылках. Обратно вывозили раненых. Их было много...
Никогда в жизни так напряженно не работал Петренко и так сильно не уставал. Ровно за полмесяца они с Кузнецовым налетали по 110 часов 50 минут. И в основном — ночью.

Рано утром 15 июля, едва они успели вернуться с задания, зарулить и выключить моторы, прибежала курносая девчушка — посыльная:
— Второму пилоту Петренко с вещами срочно явиться в штаб!
Какие вещи? Винтовка да противогаз — вот и все его вещи.
В штабе сказали:
— Вот что, Петренко, винтовку сдайте, противогаз оставьте себе. Вы направляетесь в распоряжение товарища Новикова.
Николай Иванович Новиков был командиром его эскадрильи. Глянув, командир вздохнул и приказал немедленно готовить машину для вылета. Куда и зачем — не сказал. А в армии если |не сказано, то и спрашивать незачем. Да и не до расспросов было Петренко: хотя бы успеть урвать для сна час-другой, пока техники будут готовить его Ли-2 на вылет...
Николай Иванович сразу сел справа, а Павла посадил в левое командирское сиденье, бросив ободряюще: «Привыкай...» Новикова в гражданской авиации хорошо знали. Он командовал экипажем самого крупного тогда в стране шестимоторного ПС-124, который брал на борт 64 пассажира. Этот самолет-гигант, преемник восьмимоторного «Максима Горького», с 1939 года совершал полеты по трассе Москва—Минеральные Воды.
До этого Петренко с Кузнецовым все время ходили на запад, а тут взяли курс на восток...
Первая остановка в Арзамасе, потом в Свердловске («Запоминай лучше аэродром, возвращаться сюда будешь», — заметил Новиков). Следующая ночевка в Новосибирске. Здесь у Петренко жили родители, но повидать их его не отпустили... Остался позади Иркутск, и лишь в Чите Новиков объявил:
— Пляши, Петренко, завтра в твой Хабаровск идем.
Как не радоваться: уезжал на недельку-другую, а тут... Когда пролетали над Тыгдой, он передал по радио весточку для жены: «Срочно приезжай в Хабаровск, целую, Павел».
Поутру после прилета Петренко вместе в Николаем Ивановичем появился у начальника управления Матвея Ивановича Слупского. Новиков представился, молча положил перед Слупским на стол какую-то бумагу. Петренко бросилась в глаза подпись Сталина. В документе говорилось о том, что только что организована 12-я особая авиагруппа для перегона боевых самолетов с авиазаводов на фронт и что Дальневосточному управлению надлежит незамедлительно выделить для этой работы самых опытных летчиков.
— Один уже есть, — улыбнулся Новиков, кивнув в сторону Петренко, — надо бы еще человек двадцать.
***
...И началась перегонка. Все до единого дня войны — без выходных, без отпусков и отгулов. Фронт требовал самолетов. Кроме 12-й авиагруппы, преобразованной впоследствии в 73-ю вспомогательную дивизию авиации дальнего действия, из Америки северной трассой перегоняли закупленные там самолеты и летчики перегоночной дивизии, возглавляемой Героем Советского Союза И. П. Мазуруком. Были среди них дальневосточники — Александр Логачев, Михаил Королев, Александр Макаров, Михаил Титлов...
Вот выписка из летной книжки Павла Прокофьевича Петренко, бессменного комиссара одной из перегоночных эскадрилий. С 15 июля 1941 года до конца 1945 года он перегнал в действующие части 98 самолетов, из них 76 дальних бомбардировщиков Ил-4, 19 тяжелых бомбардировщиков Ер-2, один транспортный Ли-2 и две амфибии Ш-2. Причем каждый четвертый из них он гнал на расстояние свыше 4500 километров.
Эти полеты были продолжением водопьяновских перелетов, транссибирских перегонов Леваневского и Демченко, беспосадочных рекордных маршрутов чкаловского АНТ-25, «Москвы» Коккинаки, женского экипажа «Родины». Но если у участников каждого из тех перелетов, за которыми следила вся страна, появлялся после этого на груди орден или Золотая Звезда Героя, то для перегонщиков 12-й особой авиагруппы это уже была просто работа. И была она, пожалуй, нисколько не легче, чем фронтовая... Когда много позлее, уже после войны, заходил разговор о перегонке, Павел Петренко лишь перечислял своих товарищей, сложивших на трассе перегона свои головы. Фронт требовал самолетов, и некогда было ждать, когда по всей многотысячекилометровой, плохо оборудованной трассе засияет ясное и безоблачное небо...
***
В декабре сорок первого им предстояло перегонять на запад эскадрилью бомбардировщиков «Хабаровский комсомол». Все двенадцать самолетов построены на средства, собранные жителями края. В Хабаровске состоялась торжественная передача эскадрильи воинским представителям. Провели по этому поводу митинг. Присутствовала на нем девочка, та самая ученица четвертого класса 26-й школы, которая зашла однажды в редакцию газеты и сказала: «Меня зовут Эля Михайлова. Я хочу на постройку самолета для Красной Армии отдать деньги, которые оставил мне отец, уходя на фронт». И она развернула платок, в котором лежали три тысячи рублей...
Морозным утром 23 декабря звенья, ведомые командиром перегоночной эскадрильи Аркадием Романовым, поднялись над Хабаровском и взяли курс на запад.
Через несколько дней вылетело и последнее звено — экипажи Шереметьева, Лисицына и Петренко.
В машине Павла Петренко на штурманском месте сидел бортмеханик Петр Виноградов. С ним хоть на край света, не пропадешь. Мог при надобности и на рации работать. Еще один механик, Валерий Мензинский, летел на перегонку в первый раз. Штурмана в экипаже не было.
Стояли сильные морозы, и в кабине даже сквозь меховую одежду и унты до костей пробирало холодом. Погода, правда, стояла ясная, солнечная. «Тьфу-тьфу, не сглазить бы, — подумал Петренко и вздохнул: — Не к добру это... Слишком хорошо — тоже нехорошо».
Но вот уже прошли Читу, так же за день благополучно добрались до Иркутска, еще через сутки — Новосибирск. Где-то на этих перегонах незаметно и совсем не по-праздничному встретили они новый 1942 год...
***
В Омске первая неприятность: при посадке у самолета, который вел Шереметьев, лопнуло колесо — вероятно, от сильного мороза. Тяжелую машину бросило в сторону, но экипажу удалось удержать его на полосе. Расстроенный Шереметьев спустился по крылу из кабины, в сердцах пнул изодранную в клочья покрышку. Помялся и диск колеса, и его стойка. Оставалось одно — «загорать» здесь, пока не отремонтируют.
Несчастливым оказался омский аэродром и для Василия Борисова, командира другой перегоночной эскадрильи дальневосточников. Они с Опалевым ушли на трассу раньше «Хабаровского комсомола», и летели вместе, но в Омске экипажам пришлось расстаться — из-за неполадок в одном из самолетов.
В Омске же тройка Петренко нагнала звено Ивана Трубача, который шел вместе с Николаем Фомюком и Иваном Васильевым. Так и решили идти дальше — вместе, обоими звеньями. Но пока готовились к вылету, резко и неожиданно изменилась погода. Заметно потеплело, и тут же затянуло все небо густой облачностью, пошел снег, запуржило...
***
Сидели день, другой. На третий терпение лопнуло у всех разом: минуло больше недели, как вышли они из Хабаровска, а не пройдено и половины пути. Надо лететь — погоду не переждешь. Быстро подготовили и прогрели машины, взлетели, построились и пошли всей шестеркой на Свердловск. Старались не рассыпаться, идти плотнее, чтобы не потерять друг друга.
Старались... Но вот раз, другой мелькнули сзади в разрывах облачности самолеты звена Трубача и окончательно отстали. Через полчаса, когда попали в сильнейший снежный заряд, где-то потерялся правый ведомый — Лисицын.
Петренко перестроился, перейдя к Борисову с левой стороны на правую. Так ему было удобнее. Шли они как на параде — крыло в крыло. Иначе нельзя — потеряют друг друга... Петренко тогда не знал, что последний раз летит в перегонку с Борисовым, который вместе с Опалевым уже получил согласие от командования того дальнебомбардировочного полка, куда они гнали машины, и знали, что останутся в нем воевать. Добровольно.
Миновали Курган, подходили уже к Каменск-Уральскому. Отсюда до Свердловска, как говорится, рукой подать. Но тут Виноградов сообщил командиру по внутренней связи: «Свердловск закрылся — погоды нет, шторм. Возвращают нас в Курган». Петренко повернул голову к самолету ведущего. Через слегка прихваченные инеем стекла фонаря ему хорошо было видно, как Борисов расстроенно покрутил головой, мол, не судьба, и кивнул — разворачиваемся назад.
***
Из Кургана они вырвались только через два дня. В Свердловске их ждал Иван Васильев. Он и Фомюк, потеряв в снежной круговерти самолет своего командира звена Трубача, вернулись с полдороги в Омск. Туда же возвратился и Лисицын, оторвавшись от своей тройки. Недалеко от Свердловска непогода посадила Ивана Трубача на вынужденную. Посадка на одном из бесчисленных там озер прошла тяжело: машина была повреждена, командир попал в госпиталь... На какие аэродромы разбросало другие экипажи, Васильев точно не знал.
Над взлетным полем несло низкие рваные тучи, погода была «на пределе», но Казань давала согласие на прием. Решили не ждать. Вылетели втроем — Борисов, Петренко, Васильев. Облачность прижимала их все ниже и ниже. А там — горы. Оставалось одно: пробиваться наверх, идти над облаками. Так и сделали.
***
В «слепых» полетах Павел Петренко не терялся. Навык уже был. За остаток лета и осень, что прошли после создания их перегоночной группы, успел понакрутиться в облаках. Как вспомнишь... Но ни вспомнить, ни подумать не успел: неожиданно прямо перед собой он увидел в разрывах облаков вершину скалы. Враз прошибло холодным потом. Петренко резко взял штурвал на себя. Машина, взвыв моторами, свечей пошла вверх.
Испугаться не успел — настолько все произошло быстро. Но момента этого хватило как раз для того, чтобы потерять своего ведущего. Сделал несколько отворотов, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Тщетно. Вся надежда оставалась на себя. Штурмана не было, а как бы он был сейчас кстати. Решил пробиваться на запад, назад ходу нет: там горы.
Шел на высоте 5500 метров. Дышать становилось все труднее. Кровь била в висках. Осматриваясь по сторонам, старался резко не поворачиваться — мог потерять сознание. Посмотрел на часы: выходило, что Казань должна быть где-то рядом. Но где?
Осторожно, чтобы не застудить быстрым спуском моторы, стал снижаться, закладывая машину в спираль. Метров за двести от земли пробил облачность, стал ходить большими кругами, пытаясь сориентироваться. Но вокруг был бесконечный снег, снег, снег...
Наконец заметил какую-то площадку. Похожа на аэродром. Сделал над ней круг. Внизу появился человек, выложил «Т» — посадочный знак. Решили: садимся. Предательски подвел их все тот же снег, оказавшийся на площадке слишком глубоким. Петренко до сих пор не поймет, как ему удалось тогда удержать в руках штурвал, избежав капотирования машины.
***
Оказалось, что до места назначения они немного не дотянули: сели в Набережных Челнах. Три дня с утра и до вечера экипаж расчищал и укатывал на площадке снег, чтобы можно было взлететь. Потом добрались в Казань, но там уже никого из своих не застали. Отсюда оставался последний перелет на один из подмосковных аэродромов, где 17 января 1942 года они торжественно вручили в целости и сохранности доведенный ими Ил-4 Герою Советского Союза летчику Александру Молодчему.
Ровно сорок лет спустя, в январе 1982 года, Павел Прокофьевич Петренко назовет тот перегон одним из относительно легких...
Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен